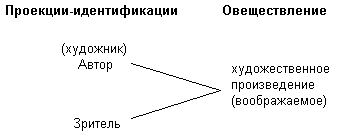|
||
| новости библиотека общение обучение тесты кто есть кто проекты |
Морен Э. КИНО, ИЛИ ВООБРАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК [см. прим. 1] (Фрагменты).Morin, Edgar. Le cinema ou J'homme imaginaire. – In: "Essais d'antropologie sociologique." Paris, Les Editions de minuit, 1956, pp. 97-132. Кинематографическая партиципация(...) Процессы проекции-идентификации, составляющие самую сердцевину кино, занимают, очевидно, важное место и в жизни. Следует избегать восторгов Журдена по поводу их обнаружения на экране. И в то же время не только наивные комментаторы, но даже такой проницательный ум, как Балаш считает, что идентификация или проекция (всегда, впрочем, рассматриваемые изолированно) родились вместе с фильмом. Вероятно, так же каждый открывает для себя любовь. Проекция-идентификация (эффективная партиципация) постоянно проявляет в нашей повседневной жизни, как личной, так и социальной. Уже Горький замечательно говорил о "полувоображаемой реальности человека". Если следовать за Мидом, Кули, Стерном, следует вообще объединить воображаемую и социальную партиципации, зрелище и жизнь. Межличностные отношения определяют принятие ролей и персонализация. Наша личность есть готовый продукт. Мы надеваем ее, как одежду, и надеваем костюм, как роль. В жизни мы играем роль не только для другого, но также (и прежде всего) для себя. Костюм (переодевание, лицо (маска), речи (условности), чувство нашей значимости (комедия) организуют в повседневной жизни спектакль, который мы разыгрываем для себя и для других, то есть поддерживаем воображаемые проекции-идентификации. В той мере, в какой мы идентифицируем экранные изображения с реальной жизнью, активизируются наши проекции-идентификации. На первый взгляд, это ослабляет оригинальность процесса кинематографической проекции-идентификации, но в действительности лишь обнаруживает его своеобразие. Что вообще способствует его выявлению? На экране перед нами лишь игра тени и света; только процесс проекции может идентифицировать тени с предметами и реальными существами, придать им ту реальность, которой им в такой мере не хватает при размышлении и в гораздо меньшей степени при просмотре. Таким образом первичный и элементарный процесс проекции-идентификации придает кинематографическим изображениям достаточно реальности, чтобы в дело могли вступить обычные проекции-идентификации. Иначе говори, механизм проекции-идентификации находится у истоков самого кинематографического восприятия. Другими словами, субъективная партиципация в кинематографе идет путем восстановления объективного порядка вещей. Но пока мы еще не достаточно вооружены, чтобы непосредственно приступить к рассмотрению этой принципиальной проблемы. Временно обойдем ее, ограничившись констатацией факта, что впечатление жизни и реальности, свойственное кинематографическому изображению, неотделимо от первого порыва партиципации. Вероятно, зрители синематографа Люмьеров в той мере верили в реальность надвигающегося поезда, в какой они пугались его. В той степени, в какой они видели "сцены удивительного реализма", они чувствовали себя одновременно и актерами, и зрителями. Сразу после сеанса 28 декабря 1895 года А. де Парвиль с наивной определенностью отмечает феномен проекции-идентификации: "задаешь себе вопрос, являешься ли ты простым зрителем или актером этих сцен удивительного реализма". Эта неуверенность, как бы быстро она ни прошла, переживалась с первых же сеансов: люди убегали, крича, потому что на них двигался локомотив; женщины падали в обморок. Но вскоре они пришли в себя; кинематограф возник в недрах той цивилизации, где сознание ирреальности изображения было столь укоренным, что видение, каким бы реалистичным оно ни было, не могло рассматриваться как практически реальное. В отличие от архаических культур, которые полностью бы признали их реальность, или вернее, практическую сверхреальность видения (удвоения), цивилизованный мир способен видеть даже в самом совершенном изображении лишь изображение. Он ощутил лишь "впечатление" реальности. Итак, "реальность" (в практическом смысле слова) кинематографической проекции оказывается бесцененной. Это обесценивание отражает тот факт, что кино является лишь зрелищем. Качество зрелища, скажем шире – эстетическое качество в непосредственном смысле этого слова, будучи прочувствованным (или эмоционально пережитым в противоположность практически пережитому), уничтожает, кастрирует все практические следствия партиципации: для публики больше не существует ни риска, ни ангажированности. В любом зрелище, даже если актеры подвергаются реальной опасности, публике ничто не угрожает. Она находится вне досягаемости поезда, который прибывает в настоящий момент, но и сам этот момент настоящего находится вне досягаемости зрителя; несмотря на испытываемый страх, он спокоен. Кинематографический зритель не только практически находится вне действия, но и знает, что действие, хотя оно реально, находится в настоящее время вне практической жизни. Смягченная реальность изображения лучше, чем полное отсутствие реальности, когда кинематограф предлагает, по словам Мельеса, "мир на расстоянии вытянутой руки". Зарубежные столицы, неизвестные и экзотические континенты, ритуалы и странные нравы вызывают, хотя, может быть, и с некоторой скидкой, космические партиципации, которые, вероятно, было бы приятнее переживать практически, путешествуя, но которые практически находятся вне досягаемости. Даже практически обесцененная, смягченная реальность изображения в некотором роде лучше, чем опасная реальность – буря на море, автомобильная катастрофа – поскольку она позволяет ощущать, хотя и в умеренных дозах, но зато в безопасности, опьянение риском. Но тут есть и еще один момент. Кинематографическое изображение, которому, в отличие от практической реальности, не хватает способности выдерживать проверку, обладает достаточной аффективной силой, чтобы оправдать существование зрелища. Практической обесцененности его реальности соответствует возможное возрастание аффективной реальности того, что мы назвали очарованием изображения. Космические партиципации со скидкой и аффективный рост ценности изображения, взятые вместе, оказываются достаточно могущественными, чтобы с самого начала превратить новое изобретение в зрелище. Кино, таким образом, есть не более, чем зрелище, но и не менее того. Кинематограф располагает очарованием изображения, иными словами, обновляет и возвышает банальное и повседневное видение вещей. Скрытые качества двойника, силы тени, известная чувствительность к призрачности вещей объединяют свой многовековой престиж в недрах фотогенического усиления и вызывает воображаемые проекции-идентификации часто лучше, чем практическая жизнь. Пыл, вызываемый дымкой, паром, ветрами, наивная радость узнавания знакомых мест (уже обнаруживаемая в радости, доставляемой открыткой или фотографией) ясно свидетельствует о той партиципации, которую возбуждает синематограф Люмьеров. После "Порта Ла Сиота", отмечает Садуль, "зрители вспоминали о своих экскурсиях, говорили детям: ты увидишь, все точно таков же". С первых же сеансов Люмьер обнаруживает удовольствие, доставляемое идентификацией, необходимость в узнавании; он советует своим операторам снимать людей на улицах даже стимулировать съемку, "чтобы привлечь людей на представление". В качестве доказательства интенсивности явлений кинематографической проекции-идентификации можно привести опыт Кулешова, который, правда, еще не принадлежит к области техники кино. Кулешов поместил один и тот же "статичный и абсолютно невыразительный" план Мозжухина последовательно перед изображениями тарелки супа, мертвой женщины, смеющего ребенка; зрители, "захваченные игрой актера", увидели как тот последовательно выражает голод, страдание, нежную родительскую любовь. Разумеется, между этими эффектами и теми, что встречаются в повседневной жизни и в театре, существует лишь различие в степени: мы привыкли вычитывать ненависть и любовь на пустых лицах, лицах, окружающих нас. Но другие явления подтверждают, что эффект Кулешова является исключительно действенным. Так мы можем записать в актив кинематографу ложные узнавания, когда идентификация доходит до ошибки в установлении личности, как, например, тогда, когда король Англии узнал себя в хронике коронации, сфабрикованной на студии[см. прим. 2] Кинематограф создал зрелище, потому что возбуждал партиципацию. Институционализировавшись в качестве зрелища, он стал возбуждать ее еще в большей мере. Сила партиципации уподобилась снежному кому. Она революционизировала зрелище и одновременно толкнула его в сторону воображаемого. Во всяком зрелище, как мы уже указывали, зритель находится вне действия, он лишен практического участия. Последнее либо полностью отсутствует, либо атрофировано и направлено русло аккомпанирующих символов (аплодисменты) или же отказа (свистки), во всех случаях неспособных каким-либо образом повлиять на внутренний ход представления. Зритель никогда не переходит к действиям, в крайнем случае – лишь к жестам или знакам. Отсутствие или атрофия моторной, практической или активной партиципации (одно из этих определений подходит лучше другого в зависимости от конкретного случая) тесно связаны с психической и аффективной партиципацией. Партиципация зрителя, не имея возможности выразиться в действиях, становится внутренней, ощущаемой. Кинестезия зрелища поглощается коенестезией зрителя, то есть его субъективностью, и влечет за собой проекции-идентификации. Отсутствие практической партиципации таким образом определяет интенсивную аффективную партиципацию: настоящие смещения осуществляются между душой зрителя и зрелищем на экране. Соответственно, пассивность зрителя, его беспомощность ставят его в положение регрессии. Зрелище иллюстрирует общий антропологический закон: когда нас лишают способности действовать, все мы становимся сентиментальными, чувствительными, слезливыми; обезоруженный эсэсовец рыдает над своими жертвами или канарейкой, головорез в тюрьме становится поэтом. Пример хирурга, лишающегося чувств при виде показанной в кино операции, хорошо свидетельствует о той сентиментальности, которую внезапно вызывает бессилие. Именно потому, что он находится вне практической жизни, лишенный своих возможностей, врач ощущает ужас обнаженной и терзаемой плоти, точно так же, как если бы он был профаном, созерцающим подлинную операцию. В регрессивной ситуации зритель, инфантилизированный как бы под воздействием искусственного невроза, созерцает мир, отданный на откуп силам, ускользающим от него. Вот почему в зрелище все легко переходит со стадии аффективной на стадию магическую. В итоге именно на стадии предельной пассивности – сна – проекции-идентификации безгранично усиливаются, и тогда мы называем их сновидениями. Зрелище, синематограф Люмьеров возбуждает проекцию-идентификацию. Более того, он создает исключительно чистую зрелищную ситуацию, поскольку осуществляет максимальное физическое отделение зрителя от зрелища: в театре, например, присутствие зрителя может сказаться на игре актера, оно участвует в осуществлении единства события, подчиненного воле случая: актер может забыть роль или плохо себя почувствовать. "Атмосфера" в церемониал не могут отделиться от актуального, в настоящий момент переживаемого характера театрального представления. В кинематографе физическое отсутствие актеров, так же как и вещей, делает невозможными любые физические случайности; церемониал отсутствует, иначе говоря, не существует практического содействия зрителя спектаклю. Создавая самое себя, точнее, создавая собственные залы, кино усилило некоторые парасновидческие свойства, благоприятные для проекций-идентификаций. Темнота не была необходимым (мы видим это на примере рекламных проекций во время антрактов), но тонизирующим партиципацию элементом. Создали темноту, изолирующую зрителя, "запаковывающую его во тьму", как говорил Эпштейн, растворяющую дневное сопротивление, усиливающую гипноз тени. Говорили о гипнотическом состоянии, скажем точнее, близком к гипнотическому, поскольку зритель все-таки не спит. Но хотя он и не спит, его креслу уделяют такое внимание, каким оно не пользуется в других зрелищах, избегающих отупляющего комфорта (театр) или даже презирающих его (стадионы): зритель векам полурастянуться, принять позу удобную для "расслабления", благоприятную для грез. Итак, он изолирован, но находится в самом сердце человеческого окружения, огромной желатинообразной общей души, в сердце коллективной партиципации, еще более усиливающей его индивидуальную партиципацию. Быть одновременно в изоляции и в группе: два противоречивых и взаимодополняющих условия, благоприятствующих внушению. Телевидение дома не располагает этим огромным резонатором; оно предполагает себя на свету, в окружении повседневных предметов, разобщенным людям (вот почему в США приглашают гостей на телевечеринку). Зритель "темных залов", напротив, является пассивным субъектом в чистом виде. Он ничего не может, не в состоянии ничего отдать, даже аплодисментов. Терпеливый, он терпит. Покорный, он покоряется. Все происходит очень далеко, вне его досягаемости. И одновременно все происходит в нем, в его психической коенестезии, если можно так выразиться. Когда престижи тени и двойника сплавляются на белом экране в ночном зале перед лицом зрителя, утопленного в своей лагуне, монады, закрытой всеми, кроме экрана, запеленутой в двойную плаценту анонимного сообщества и темноты, когда возможность действия блокируется, тогда открываются шлюзы мифа, сновидения, магии. Эстетическое воображаемое и партиципации Вторжение воображаемого в фильм во всех случаях повлекло бы за собой – даже если бы не произошло превращения синематографа в кино – рост аффективных партиципаций. Художественное произведение – это радиоактивный стержень проекций-идентификаций. Оно есть продукт "мечтаний" и "субъективности" своих авторов, объектизированный в ситуациях, событиях, персонажах, актерах, овеществленный в произведении искусства. Проекция проекций, кристаллизация идентификаций, оно предстает со всеми отчужденными и конкретизированными свойствами магии. Но это произведение является эстетическим, то есть предназначено для зрителя, который сохраняет сознание отсутствия практической реальности в том, что представлено: магическая кристаллизация, таким образом, превращается для этого зрителя в субъективность и чувства, иными словами в аффективные партиципации:
Настоящий энергетический поток позволяет в высокой степени овеществить партиципации для того, чтобы передать их публике. Так, внутри эстетического универсума с помощью воображаемых произведений осуществляется челночное движение магического восстановления через чувство челночное движение магического разрушения через чувство. Мы видим, как художественное произведение возрождает магию, но одновременно видоизменяет ее, как магия кино вписывается в рамки общего закона эстетики. Эстетическое воображаемое, как и всякое воображаемое, есть царство потребностей и надежд человека, воплощенных, отлиться в ситуацию, принятых на себя вымыслом. Оно питается самими глубокими и самыми мощными источниками аффективной партиципации. Тем самым оно и само питает наиболее мощные и глубокие аффективные партиципации. В 1896-1914 годы очарование изображения, космические партиципации, условия зрелищной проекции, бури воображаемого как бы тренируют друг друга для того, чтобы вызвать, возбудить великую метаморфозу, которая придаст синематографу структуры аффективной партиципации. Синематографическое изображение было переполнено аффективными партиципациями до предела, и оно буквально лопнуло. Этот гигантский молекулярный взрыв обусловил рождение кино. К исключительной неподвижности зрителя отныне присоединилась исключительная подвижность изображения, способствуя сознанию кино, зрелища среди зрелищ. Процессы акселерации и интенсификации Техника кино сводится к выживанию, акселерации и интенсификации проекции-идентификации. Синематографа восстанавливал подлинное движение вещей. Кино привносит иные движения: подвижность камеры, ритм действия и монтажа, убыстрение времени, музыкальный динамизм. Эти движения, ритмы, темпы сами по себе ускоряются, сочетаются, накладывается друг на друга. Всякий кинофильм, даже самый банальный, является суммой движений. Силы партиципации, уже пробужденные и вызванные зрелищной ситуацией, подстегиваются тысячью проявлений движения. Отсюда все вихри кинестезий устремляются в коенестезию, мобилизуют ее. Почти каждое средство кино может быть сведено к модальности движения и почти любая техника движения стремится к интенсивности. В действительности камера может позволить себе – с помощью собственного движения или смены последовательных планов – постоянно держать в поле зрения, постоянно кадрировать и превращать в звезду некий возбуждающий эмоцию элемент. Она может постоянно фокусировать предмет, чтобы добиться наибольшей интенсивности. С другой стороны, ее движения, ее многочисленные схватывания (различные ракурсы) одного и того же предмета создают настоящее аффективное обволакивание. Параллельно с кинестезической техникой и под ее влиянием была приведена в действие техника интенсификации через временное (замедление) или пространственное (крупный план) растяжение. Разрушение длительности о поцелуй (священная "вечность мгновения"), разрушение видения о крупный план все того же поцелуя создают некое подобие втягивающей в себя зачарованности, улавливают и гипнотизируют партиципацию. Двигать и брать в рот: таковы элементарные процессы, с помощью которых дети устанавливают партиципацию с окружающими их вещами. Гладить и целовать – элементарные процессы любовной партиципации... Таковы же и процессы, с помощью которых кино устанавливает партиципацию: кинестезическое обволакивание и крупный план. В дополнение к интенсифицируюшим ухищрениям кинестезии, замедления и крупного плана, техника постановки также стремится возбудить и предуготовить партиципацию зрителя. Фотография преувеличивает тени или изолирует их, чтобы породить тоску. Киловатты электрического света создают орел духовности вокруг чистого лица звезды. Освещение нужно для того, чтобы устанавливать, ориентировать, направлять эффективное освещение. Точно так же ракурсы, раскадровка подчиняют формы презрению или уважению, восторгу или пренебрежению, страсти или отвращению. После того, как персонаж был вознесен нижним ракурсом, верхний ракурс низводит его до положения швейцара, ставшего "Последним человеком". "Скандербег", весь снятый с нижней точки, показывает нам легендарное величие. Так ухищрения постановки вызывают и окрашивают эмоцию. Ухищрения кинестезии устремляются к коенестезии для того, чтобы ее мобилизовать, Ухищрения аффективной интенсивности стремятся к тому, что зритель и фильм взаимно поглощали друг друга. Музыка сама по себе является итогом всех этих процессов и эффектов. По самой своей кинестезической природе она является аффективной материей в движении. Она обволакивает, пропитывает душу. Эти моменты напряжения обладают некоторым сходством с крупным планом и часто совпадают. Она детерминирует аффективный тон, является камертоном, подчеркивает (и весьма жирно) эмоцию и действие. Музыка фильма – это в конца концов настоящий каталог состояний души. Будучи одновременно кинестезией (движением) и коенестезией (субъективностью, аффективностью), она является связующим звеном между фильмом и зрителем, она вносит весь свой порыв, всю свои гибкость, все свои эманации, свою звуковую протоплазму в великую партиципацию. Музыка, говорил Пудовкин, "выражает субъективную оценку" объективности фильма. Можно распространить эту формулировку на все сферы кинотехники. Последняя не только стремится установить субъективный контакт, но и создать субъективный ток. "Ритм этого мира является психическим ритмом, рассчитанным по отношению к нашей аффективности" (Э. Сурьо). ТЕХНИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ АФФЕКТИВНОЙ ПАРТИЦИПАЦИИ
Этот поток изображений, чувств, эмоций создают эрзац потока сознания, который приспосабливается и приспосабливается к себе коенестезический, аффективный и интеллектуальный динамизмы зрителя. Все происходит так, как если бы фильм разворачивал новую субъективность, увлекая за собой субъективность зрителя, или вернее, как если бы две бергсонианских движения[см. прим. 3] приспосабливались друг к другу и увлекали друг друга вслед за собой. Кино, собственно, и есть этот симбиоз: система, стремящаяся интегрировать зрителя в поток фильма. Система, стремящаяся интегрировать поток фильма в поток зрительской психики. Фильм несет в себе нечто подобное запалу или взрывному механизму партиципации, который заранее подрывает его воздействие. В той мере, в какой он выполняет за зрителя часть его психической работы, он удовлетворяет его с минимальными затратами. Он выполняет работу вспомогательной машины чувств. Он моторизирует партиципацию. Он есть машина проекции-идентификации. Свойством же всякой машины является проделывание за человека его работы. Отсюда "пассивность" кинозрителей, по поводу которой мы воздержимся от стенаний. Разумеется, существует пассивность в том смысле, что кино постоянно открывает каналы, по которым партиципации остается лишь свободно течь. Но в конце концов водяной смерч исходит от зрителя, он пребывает в нем. Без него фильм является ничем иным, как неразборчивой и бессвязной последовательностью изображений, головоломкой тени и света... Пассивный зритель одновременно и активен; как говорит Франкастель, он создает фильм так же, как и его авторы. Эта пассивная активность "дает нам возможность без скуки (и даже с радостью) следить за ужасающим убожеством происходящего на экране, в то время как мы бы никогда не вынесли этого на бумаге"(Ф. и А. Берж). Фильм не только использует присутствие изображений (чего самого по себе недостаточно: статичные документальные ленты навевают скуку), но он щекочет партиципацию в нужном места, подобно ловкому иглоукалыванию; дух зрителя, таким образом возбужденный и приведенный в активность, втягивается в этот динамизм, который является его собственным динамизмом. Вот почему один из критиков признал без обиняков, что в кино он был глубоко взволнован тем же самым "Словом"[см. прим. 4], которое ему показалось отвратительным в театре. Вот почему можно сказать; "Даже в самых мерзких фильмах я ощущаю некий гипноз". "Даже худшее кино, несмотря ни на что, остается кино, то есть чем-то волнующим и неопределимым" (М. Левен). "Глупый фильм не так глуп, как глупый роман" (Даниэль Ропс). "Первые идиотские, но восхитительные фильмы" (Блез Сандрар). И как часто мы слышим: "Это идиотизм, но забавно". Ключевая формула партиципации – в фильме. Восприятие в киноКино разрушает объективные пространственно-временные границы синематографа. Оно показывает предметы под непривычными углами; зрения, прибегает к значительному их укрупнению, заставляет их осуществлять ирреальные движения. Камера перескакивает с места на место, от плана к плану, или в одном плане кружится, приближается, отступает, плывет. Мы связали эту ее вездесущность и эти ее движения с системой аффективной интенсификации. Можно также утверждать (и вся суть проблемы заключается в этом "также"), что камера копирует деятельность нашего зрительного восприятия. Работы гештальтпсихологов обнаружили, что человеческий взгляд в его перцептивной расшифровке реальности всегда подвижен. Как точно указывает Заэзо, "камера... эмпирически обрела подвижность нашего психологического зрения". Подвижность камеры, последовательная смена частичных планов, касающихся одного и того же предмета интереса, приводят в действие двойной процесс восприятия, идущий от фрагментарности к тотальности, от множественности к единству объекта. Фрагментарные ощущения соучаствуют в глобальном восприятии: практическое восприятие является восстановлением целостного на основе знаков. Восприятие, например, пейзажа или лица является операцией частичного и скачкообразного открытия и расшифровки – известно, что чтение есть последовательность зрительных скачков от фрагмента к фрагменту слова, на основе которых возникает глобальное видение. Чтение статичного плана на экране также производится через фрагменты и скачки. Но оно осуществляется в рамках другой фрагментарной и скачкообразной расшифровки, на сей раз механической, осуществляемой самим фильмом. Последний является ничем иным, как последовательностью частичных планов, сгруппированных вокруг одной ситуации, часто вовсе и не нуждающейся в общем плане. Так, эпизод может показывать нам всегда порознь трех персонажей в кабине одного грузовика, зритель всегда будет видеть их вместе (П. Фрасе). Пятилетняя Ирен, которую я второй раз повел в кино, видит одну сцену там, где следуют друг за другом три фрагментарных плана – (I) Бинг Кросби нанизывает булочку на острие своей трости – (II). Эта трость опускается из окна вдоль стенки вагона – (III) Боб Хоуп, спрятанный под вагон, берет булочки ("Дорога на Бали"). Частичные точки зрения часто являются множественными точками зрения на один и тот же предмет или одну и ту же ситуацию. Эта полифокальная мобильность камеры обеспечивает нам объективное восприятие и понимание. Объект является объектом, потому что психологически он воспринимается со всех точек зрения. "Следует обучаться предметам, то есть умножить возможные точки зрения на них, обходить их",- говорит Сартр. Иными словами, объективное восприятие – это конечный пункт, заключение, глобализация частичных точек зрения, всеохватывающих изображений, как в живописных примитивах или интеллектуальной живописи, стремящихся собрать на холсте все возможные виды одного предмета. Этот процесс для хорошо знакомых предметов уже предуготовлен. Мы тут же и с одной точки зрения узнаем куб, поскольку мы уже конкретизировали его форму в предыдущем опыте. Иначе он был бы для нас шестиугольником. Движущаяся камера сочетает и перемешивает фрагментарные в полифокальные виды. Она шарит, порхает, а глаза зрителя восстанавливает и объединяет. Опыт Фресса, который каждый в состоянии воспроизвести, когда идет в кино, показывает, что восприятие мчащегося на всей скорости грузовика определяется многочисленными планами деталей, колесами, спидометром, зеркалом заднего вида, ногой на акселераторе. Мы всегда восстанавливаем не только постоянство предметов, но и постоянство пространственно-временных границ. Зритель восстанавливает одновременность параллельных действий, хотя они показываются через чередование последовательных планов. Это "хотя" является также и "потому что": последовательность и чередование являются теми модусами, с помощью которых мы воспринимаем одновременные события, более того – единственное событие. В реальной жизни гомогенная пространственно-временная среда, ее предметы и события даны нам; в этих рамках восприятие расшифровывает с помощью многочисленных скачков, узнаваний и охватов. В кино работа по расшифровке уже подготовлена, и восприятие восстанавливает гомогенность, предмет, событие, время и пространство, опираясь на фрагментарные серии. Перцептивное уравнение в итоге остается тем же, меняется одна переменная. Этот сходный перцептивный итог проявляется при сравнении двух столь похожих и столь различных зрелищ – кино и театра. Границы театральной сцены, начиная с XVII века до совсем недавнего времени, определялись абсциссой и ординатой статического пространства (как и в синематографе Люмьеров). Экран же блуждает в пространстве. В театре зритель по видимости наблюдает все пространственное поле; его угол зрения не меняется; расстояние между ним и сценой постоянно. Но, захваченный проекцией-идентификацией (хотя она возбуждается и не так сильно, как в кино), он психологически помещен среди (и в среду) представления. Он психологически разрывает и восстанавливает, выбирает, устанавливает последовательность частных планов внутри общего видения и развития. Его психологическая точка зрения, его психологическая удаленность от сцены постоянно меняются. Его внимание путешествует подобно подвижной и свободной камере, постоянно настраиваясь на крупные планы, то на американские планы, то на общие планы, травеллинги или панорамы [см. прим. 5]. К тому же театральная традиция требует, чтобы актеры никогда не оставались на одном месте, с тем чтобы их непрекращающиеся движения беспрерывно возбуждали перцептивную подвижность зрителя и вызывали нечто подобное психическому эквиваленту движений камеры. И, наоборот, непрерывная подвижность камеры в фильме Кокто "Ужасные родители" очень точно использует психические процессы театрального зрителя, что и превращает этот фильм в "специфическое" кино. Таким образом, в театре существует некое скрытое кино, точно так же, как глубокая театральность пронизывает каждый кинематографический план. В первом случае психологическое видение кинематографизирует театр; во втором случае рационализация и объективация театрализуют кино. В первом случае рациональные и объективные границы задаются театром (единство места и времени); во автором случае кинематографом задается психологическое видение. В первом случае само по себе начинает функционировать маленькое кино, помещающееся в нашей голове; во втором наш маленький театр разворачивает свою сцену и свое пространство. Зритель часто не сознает, что именно он, а не изображение, привносит глобальное внимание. Тем самым он не сознает и глубокой разницы между кинофильмом и к фильмом синематографа (театральным фильмом); разница эта заключается в предварительной механизации перцептивных процессов. Но в то же время он смутно сознает, что именно приводит в конце концов кино и театр к общему знаменателю: единство психологического видения [см. прим. 6]. Восприятие моделируется и управляется психологическими видением, подвижность и независимость которого по отношению к образу на сетчатке составляет одну из величайших тайн человеческого духа, хорошо знакомой психиатрам или психологам и рассмотренной в числе немногих Фаригулем в его мемуаре об экстрасетчаточном зрении. Воображаемые процессы, подлинные галлюцинации, как говорит Керси, примешиваются к нашему восприятии. Скажем иначе, удвоение и видение (в визионерском смысле слова) всегда в зародыше присутствуют в восприятии. Психологическое видение кажется ведомым неким глазом, едва не отрывающимся от тела, вынесенным на подобии стебля во вне, движущимся, вращающимся, как бы оторванным и вместе с тем связанным с ним. Все происходит так, как если бы иное "я" регистратор и носитель психологического видения, освободилось, вырвалось за пределы окулярного зрения, за пределы нашего материального существа. Все происходит так, как если бы это ego alter обладало способностью ко внешнему взгляду, который видит нас с головы до ног с расстояния нескольких метров. Это расстояние от себя до себя как будто тайно следует за нами наподобие американского авто-плана. Возникает вопрос, не является ли американский план геометрическим местом встречи нашей собственной и идентификации с другим, откуда и проистекает его систематическое использование в некоторых фильмах. Теперь понятно, что автоскопическая галлюцинация и раздвоение является патологическими эксцессами – магическим овеществлением – невоспринимаемого, но управляющего воспринимаемым, нормального явления. Сновидение и воспоминание восстанавливают связь между раздвоением личности у сумасшедших и маньяков и повседневным восприятием. В сновидении каждый может испытать невероятную свободу блуждающего взгляда, странных точек зрения, позволяющих даже созерцать самих себя. Точно так же образ в воспоминании шире угла зрения нашего глаза часто захватывает и нашу собственную личность. Мы смотрим на себя и вокруг как бы удвоенными глазами, в действительности присовокупляя к зрению воображаемые дополнения и психологические рационализации. Все свидетельствует о том, что существует общий ствол перцептивных (практических) и аффективных (магических) явлений, внутри которого они еще не отделены друг от друга. Общей для этих явлений платформой является психологическое видение, перекресток объективаций и субъективаций, реального и воображаемого, ядро, излучающее в то, и другое. Общий для них процесс – это проекция-идентификация, но в то время, как аффективные проекции-идентификации ведомы процессами воображаемого, объективные проекции-идентификации вводят процессы воображаемого в рамки практической детерминации: субъект проецирует рационализирующие структуры, идентифицирующие предмет, но не с субъектом, а с самим предметом, иными словами, с видом иди родом. Практическое видение находится в самом [взаимодействии] практических и воображаемых процессов. Оно ориентирует либо в то, либо в иное направление. В практическом восприятии тенденции к вездесущности, удвоению, анимизму атрофированы, пригашены или направлены в сторону объективного узнавания, в результате чего мы приходим к закрепленным в их постоянстве, гомогенности и всеобщности предметам. В аффективном видении явления объективации смазаны, расплывчаты, либо нагружены субъективностью. В магическом видении они либо атрофированы, либо затоплены метаморфозами, либо же фетишизированы. В последнем случае сам объект, законченный и устойчивый, неожиданно опрокидывает свою объективность на зеркало воображаемого: магия похищает двойника, живущего в нем, и носит его в потоке своего бреда. Так, единые у своих истоков психические процессы ведут как к практическому видению, объективному и рациональному, так и к аффективному видению, субъективному и магическому. Они поливалентны, и эта поливалентность позволяет понять, почему практическое видение может быть нагружено магией или партиципацией, а также почему магическое видение может сосуществовать с практическим видением, как у первобытных народов, у которых само это сосуществование и детерминирует восприятие. Отсюда ясно, почему фундаментальные процессы кино, стремящиеся породить и оживить подвижность, глобальность, вездесущность психологического видения, одновременно соответствуют явлениям практического восприятия и явлениям аффективной партиципации. Кино создано по образцу и подобию того и другого, а потому вызывает и то, и другое. Подобно пауку, опутывающему и высасывающему свою добычу, камера со всех сторон ощупывает собор, углубляется в него, отступает, обвивает вокруг него и проникает внутрь, чтобы в итоге питать собой не только субъективную коммуникацию, но и практическое знание: собор схвачен в своих различных аспектах, под разными углами зрения; это объективный документ. Таким образом, подвижность камеры, фрагментация на планы соответствуют общим аффективным и практическим процессам. Они являются общими потому, что находятся у своих истоков и еще не дифференцированы. От природы они имеют тенденцию к разграничению и, в пределе, к противопоставлению, где и возникает разрыв между магией и наукой. Субъективность и объективность – близнецы, с возрастом становящиеся врагами. Именно с точки зрения их единства и противоположности – то есть с диалектической точки зрения – и следует рассматривать их в кино. Перевод М.Ямпольского ПРИМЕЧАНИЯ1. В названии Э.Морен перефразирует заглавие известной книги Б.Балаша "Видимый человек" (прим. редактора). [назад в текст] 2. Имеется в виду реконструированная хроника Жоржа Мельеса "Коронация Эдуарда П", созданная до реального события в студии в Монтрейе (прим. переводчика). [назад в текст] 3. "Жизнь" (стремящаяся вверх) и "материя" (падающая вниз) в истолковании Анри Бергсона (прим. переводчика). [назад в текст] 4. Имеется в виду пьеса К.Мунка (1932) и ее экранизация К.-Т. Дрейером [1955) (прим. переводчика). [назад в текст] 5. Эти аккомодации гораздо труднее осуществляются на местах, удаленных от сцены, поскольку оттуда с трудом удается различать лица. С очень близких мест трудно охватить всю сцену. Вот почему существует огромная разница в ценах на места в театре, в то время, как в кино существует тенденция к унификации цен (прим. автора). [назад в текст] Это примечание вовсе не задается целью рассмотреть диалектику отношений театр-кино. Потребовалось бы остановиться на удваивающем качестве изображения, на удвоении актера, присутствующем здесь отсутствии и отсутствующем там присутствии, и прежде всего потребовалось бы проанализировать, каким образом механизмы и техника кино позволяют зрению духа поднять якоря и плыть в бесконечность времени и свободного пространства. В кинематографе и благодаря ему образ раскован, а воображаемое отпущено на все четыре стороны воображения и реальности, но одновременно оно испытать более фантастическое и более реалистическое давление, чем в театре, который всегда обречен на стилизацию, будь то под реализм, будь то под фантастику (прим. автора). [назад в текст] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| новости библиотека общение обучение тесты кто есть кто проекты |
| psychology.ru © 2000 |